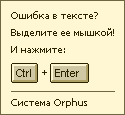Н Л П ( N L P ) :: Р Э Й К И :: Х О Л О Д И Н А М И К А
С т у д и я л и ч н о г о р а з в и т и я
И з р а и л ь :: Х а й ф а
РЭЙКИ. СТУПЕНЬ 1
РЭЙКИ. СТУПЕНЬ 2
ХОЛОДИНАМИКА-1
ВСТРЕЧА С
ПОТЕНЦИАЛОМ
ИГРЫ НОВОГО КОДА
РЕЗОНАНСНОЕ
ОБЩЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ЭМОЦИЯМИ
СБЫЧА МЕЧТ
УСУИ РЭЙКИ РИОХО-1
Ева Весельницкая. История болезни. Пространство Традиции
* * *
Толпа неожиданно схлынула, как видно, концерт очередной "звезды" начался. Я обнаружила себя одиноко стоящей посреди холла и долго не могла понять, кто наблюдает за мной так пристально из дальнего угла холла. Женщина показалась мне симпатичной и знакомой - была бы чуть худей и несколько повыше ростом, можно было бы сказать, что просто хороша, волосы, глаза, одета в общепринятом, но слегка странноватом стиле. Да, совсем ничего.
- Простите, я могу чем-нибудь помочь? - вышколенный секьюрити развеял наваждение, как дым.
- Нет, нет, все в порядке. Спасибо. - Женщина напротив слегка подмигнула. "Да, Сонечка, совсем ты, милая, заигралась. Там зеркало в углу. Себя не узнаешь. Распрягай, приехали".
Как там оно звучало в великой новогодней сказке всех времен и народов? "Есть не хочу, пить не хочу", но и уходить, честно говоря, не хочу, да и не получится: "Мосты встают ночной преградой…" Ну, где вы еще найдете огромный город, распорядок жизни жителей которого полгода прочно завязан на расписание разводки мостов. Это же не сибирская деревня, где живут от ледостава до ледохода. Это наша обожаемая культурная столица, а стиль жизни здесь испокон веку поздневечерний, если не сказать ночной. Так и живем, предупреждая друг друга: "На мосты не опоздаешь?"
Оглядываясь вокруг в надежде как-то себя занять, я увидела, что столь заинтересовавший меня господин, ужиная, продолжает беседу со своим гостем. Заказав совершенно ненужную сто какую-то на сегодняшний день чашку кофе, я со всей доступной мне деликатностью поглядывала на них, раздираемая желанием и понаблюдать, но и сохранить приличия.
На них было вкусно смотреть. Ресторан при казино славился своим аристократизмом. Стол был сервирован в лучших традициях. Белые хрустящие скатерти, хрусталь, серебро, фарфор - все настоящее, тяжелое, граненое, посверкивающее благородно в пламени зажженной свечи. Набор блюд на столе выглядел в этой оправе как натюрморт моих любимых старых голландцев. Густое темное вино, в настоящих огромных винных бокалах, тончайшие лепестки темно-багрового "карпаччио", присыпанные крупно молотым перцем и нежно желтыми крошками пармезана, черная икра в кубе льда с вмороженными в него травами и цветами, блинчики, накрытые серебряной полусферой, чтобы не остыли, гора свежей зелени, огромная тарелка с французскими сырами, разнообразного вида и оттенков от слоновой кости до покрытой патиной бронзы. Аромат сыров смешивался с запахом трав и витал над столом, распространяя запах благополучия и несомненного умения наслаждаться и радоваться жизни.
Но это было не все.
Пространство вибрировало сильно и ровно. Вибрация, центром и производителем которой был тот, кого я про себя решила пока тоже называть "Артист", захватывала собеседника, но не поглощала, как часто бывает, когда энергетически более сильный человек общается с более слабым, а как-то необыкновенно усиливала и раскрывала собственные вибрации собеседника. Казалось, что он вырастает, обретает силу и мощь, что делает его практически равным. Параллельно с пространственным восприятием, я с удивлением увидела, что и в плотной реальности молодой человек, показавшийся мне в начале несколько суетливым и беспокойным, обрел вальяжность и спокойную уверенность взрослого мужчины.
- У меня нет никакого повода вам не верить, но все, что вы предлагаете, абсолютно противоречит тому, чему я всю жизнь учился, - раздумчиво произнес молодой собеседник, отодвинул тарелку и как-то весь подобрался, словно в ожидании чего-то очень важного для себя.
- Ты просто слишком серьезно ко всему относишься. Только начинающий игрок разыгрывает партию, мучительно вспоминая, что же там, в учебниках, советовали. - Артист неспешно прихлебывал вино и его очень внимательный, цепкий, какой-то равнодушно холодный взгляд совершенно не вязался с расслабленностью позы, мягкостью голоса и плавностью жестов.
- Но, - молодой человек даже слегка заикался от волнения, - Андрей Вадимович, вы же не станете отрицать, что законы экономики, законы рынка, социальные законы, да, в конце концов, и законы игры существуют объективно.
- Не стану.
"Надо же, действительно Вадимыч", - мелькнуло у меня в голове. Но удивляться чему-нибудь уже просто не было сил.
Он молчал, глядя куда-то за левое плечо собеседника, как будто именно оттуда должен был прийти к нему ответ. Отщипнул виноградинку, но не стал ее есть, а мягко перекатывал между пальцами, как это делают бойцы, использующие любую ситуацию для совершенствования. Пауза все длилась и длилась, и чем больше возрастало напряжение молодого человека, тем расслабленнее и спокойнее становился тот, кого мне все же удобнее было называть про себя Артист.
Пространство раскрывалось, как цветок, лепесток за лепестком, присоединяя все новые слои и оттенки, плотный мир истончился, но не исчез, и, пожалуй, первый раз в жизни мне удалось видеть все эти слои одновременно.
Я понимала, что это не совсем моя заслуга, но спасибо скажу когда-нибудь потом. Да, уж, чем больше артист, тем длиннее пауза. И когда он заговорил, я уже не могла понять, действительно ли звучит этот голос в плотной реальности или это в моем восприятии переливы и колебания пространства складываются в текст.
- Не стану, - повторил он, - законы есть, но, дорогой мой, это законы плоскости, плоскости, а не пространства, и пока ты действуешь в этих плоскостях, то, конечно, куда тебе от них деваться? Пока ты не видишь целого, части его, с которыми ты сталкиваешься, кажутся тебе хаосом. Таким рассыпанным в беспорядке пазлом на три тысячи фрагментов, начальная картина которого утеряна. В том, как и почему действую я, какие выборы совершаю, нет никакого чуда, просто я живу в том месте, откуда видна вся картина. Я никогда этого не скрывал, и у меня нет никаких секретов, все просто, все очень просто. Добро пожаловать.
Добро пожаловать, звенели колокольчики, добро пожаловать. А виноградинка все перекатывалась и перекатывалась в его пальцах.
Я так очаровалась красотой происходящего, что, конечно же, перешагнула ту тонкую грань, которая отделяет вежливое пространственное взаимодействие от непозволительного вторжения.
- Если вы меня слышите, - услышала я уже знакомый, спокойный и приятный голос, - то я рад знакомству и буду благодарен, если вы перестанете перешагивать границы дозволенного. Если дверь открыта, то это совсем не значит, что в нее можно входить без спроса. Или вас иначе учили?
В пространстве повисла улыбка Чеширского кота. Добро пожаловать.
"Бог мой, какой стыд". Я так растерялась и смутилась, что, прошептав вслух: "Извините, я не хотела", - рванула из бара со скоростью человека, внезапно застигнутого расстройством желудка. И не нашла ничего умнее, чем поспешно скрыться за дверями ближайшей дамской комнаты. Взмокшая, как мышь (никогда не могла понять, почему именно мышь), с дрожащими руками и подкашивающимися ногами, я уставилась на свое отражение в зеркале и должна признать, что зрелище это меня не вдохновило.
Да не учили меня ничему такому, в том-то все и дело, что не учили. Просто однажды одна меня очень не любившая сотрудница сообщила мне, что она знает адрес "одного очень светлого человека" и это, быть может, единственный и последний шанс спасти мою несчастную душу.
Ах, этот инстинкт стаи! Как часто использует вас реальность для своих целей, какое счастье, что вы не знаете, что это так, и в праведном гневе или священном трепете исполняете свою миссию, не зная ни целей ее, ни задач. "Светлый человек" была широко известной в городе знахаркой, "бабкой", о которой я много слышала и с которой собиралась познакомиться при первой же возможности. А тут такая посылка, в такой упаковке! Пренебречь ею у меня не было никакого желания.
* * *
- Проходи! Батюшка говорит, что два года отводил нашу встречу, да видно от судьбы не уйдешь, я тебя уже неделю жду.
- Надеюсь, ты понимаешь, что я не лечиться пришла. Честно тебе скажу, что и сама не знаю, чего пришла. Но иду я к тебе давно.
- Да, ладно. Давай без церемоний. Не могли мы не встретиться. На роду нам это написано.
Я сама не заметила, как мы уже удобно расположились в малюсенькой кухне, в которую очень умело были запихнуты всевозможные блага кухонной цивилизации, и, почти соприкасаясь коленями, сидели на двух только и помещавшихся табуретках, и уже закурили, и уже чай и конфеты с печеньем, и на "ты" сразу и не спросясь, и собака по кличке Чапа, подобранная хозяйкой, подыхающей, но выхоженная, крутится у ног, и норовит залезть на колени, как к долгожданной старой знакомой. И герань, герань, цветущая на подоконнике, и занавески на окнах, и даже береза ветки в открытое окно тычет… И что-то уже произошло, уже свершилось, и хорошо, и весело, и кости общим знакомым моем.
Господи, кто только у нее не был и что только ей не нарассказывали. Болтовню не остановить, как будто со старой подругой, почти сестрой после долгой, но не горькой разлуки.
И звонок в дверь, и она, легкая, веселая, к двери, бросая на ходу:
- Это пациент. Ты тут посиди. Я поработаю, а ты посмотришь.
И мое полное недоумение:
- Что посмотрю?
- Ну, посиди тут на кухне, а я там, в комнате, с ним поработаю. Ты же никуда не спешишь, - утвердительно так, уверенно. - Ты же надолго.
И не дожидаясь ответа, не спрашивая кто, открыла входную дверь.
- Здравствуйте. Я к бабке.
- Проходите.
- Нет, я, наверное, ошибся, мне бабка нужна. Ну, знахарка.
- Да проходите вы, проходите. Я и есть бабка.
Со своей табуретки на кухне я видела совершенно по-детски растерянное лицо мужчины лет тридцати со всеми признаками преуспевания: подтянутая плотная фигура, очень дорогая в своей простоте одежда, легкий загар.
"Ему-то к ней зачем?"
Крупная, статная, с характерным лицом северных русских красавиц, которых так изумительно писала Серебрякова. Чуть раскосый разрез зеленых глаз, чуть лисье лицо, стильная стрижка и волнами стелющаяся энергия. Молодая и веселая женщина, которая, чуть посторонясь, стояла в дверях, спокойно дожидаясь, пока совершенно растерявшийся посетитель отбросит свои представления о том, как должна выглядеть известная очень многим, горячо рекомендованная ему бабка-знахарка, примет ситуацию такой, как она есть и войдет наконец в дверь.
Я смотрела на нее с не меньшим изумлением, чем посетитель.
Она видела его внутреннюю борьбу. Она-то видела. А я, я откуда это знала? И кто такой "батюшка"? И почему встречу отводил, если на роду написано?
Он так долго сомневался - идти, не идти, он не верил во все эти глупости, он никогда врачам-то дорогущим, своим и заграничным, особенно-то не верил, а тут бабка. Но он так устал от этого не определимого никем недуга, от заумных слов, пустых обещаний, что в момент слабости поддался-таки на уговоры и приехал в этот дальний, непрестижный, еще хрущевской застройки район. Смущенно приткнул свой холеный BMW среди отечественных заезженных лошадок и явно со свалки привезенных "опельков" и "фордиков". Ему казалось, что из всех окон, из-за цветных, клетчатых и тюлевых занавесок выглядывают любопытные вездесущие старухи и осуждающе покачивают головами: "Ишь здоровый-то какой, холеный, сытый и туда же, лечиться". Он ожидал увидеть пожилую опрятную деревенского вида бабульку, среди травок, иконок и котов, выслушать ее благоглупости и с чувством выполненного долга, обещал все-таки, отправиться дальше.
Но он совершенно не был готов к этим веселым насмешливым глазам, сильной женской стати и спокойному интеллигентному голосу.
- Ну, так и будем на пороге стоять?
Он как-то еще смущенно потоптался, но уже проходил, как пригласили, неловко протискиваясь мимо нее. В узком коридорчике еще потоптался, не зная, куда пристроить непременный у таких мужчин аксессуар, с каким-то совершенно нелепым почти неприличным названием "барсетка". Она уверенно поставила ее на столик у телефона, почти втолкнула его в комнату и, подмигнув мне, исчезла вслед за ним в комнате.
В квартире, казалось, что во всем доме, да и во всем мире, стало как-то вдруг неестественно тихо. Неожиданное праздничное возбуждение куда-то внезапно исчезло, сменившись беспокойством и напряжением. Я заметалась по кухне и коридорчику, зачем-то сунулась в ванну, как кошка, обнюхивая этот странный дом, оказавшийся таким неожиданным, не замечая никаких признаков странной профессии хозяйки. Я ведь тоже, оказывается, ожидала каких-то знаков, примет, икон, амулетов. Квартира как квартира. Средний достаток, ухоженная, чистенькая и очень женская. Напряжение схлынуло так же неожиданно, как и возникло. Я остановилась посреди кухоньки, еще раз уже спокойно оглянулась вокруг, как у себя дома, вымыла чашки, навела блеск и, закурив, опустилась все на ту же табуретку.
- Чего вскинулась-то? Сиди да слушай, коль уж пришла. Это я тебя звал. Замучился я с тобой. И так тебе подсказывалось, и сяк, а ты все дуришь и дуришь. Катерина-то уж извелась вся, придешь, не придешь.
Голос шелестел у меня в голове тихо, но очень отчетливо. Голос очень старого человека, который не тратит уже силы на интонации и эмоции, а журчит ровно и монотонно, как потаенный лесной ручей. Он шелестел, а я все глубже погружалась во внезапно накрывшую меня дрему и, еще помня о том, где я, уже видела удивительный сон.
В комнатке простой деревенской избы, низкой, совсем маленькой, в одно окно, с ничем не прикрытыми и не обитыми голыми стенами, где стоял только жесткий топчан с кинутым на него простым байковым одеяльцем, я сидела на лавке у стола, а напротив в древнем, как и он сам, инвалидном кресле-каталке - старец. В простой поношенной, но чистой монашеской одежде, с совершенно седыми, уже редкими от старости волосами и бородой. Маленький, худенький, в каких-то нелепых в пластмассовой оправе очках. И все бы это вызвало, наверное, добрую, умильную улыбку, если бы не глаза, глаза, цвет которых был неясен, переменчив из-за мерцания свечи, но взгляд этих глаз соединял его и делал одним из тех, кто писан был на старых, темных иконах, стоявших за его спиной в красном углу этой кельи.
- Глупая ты, да пугливая. Умереть должна была, не умерла. Уж сколько лет прошло, а все в игрушки играешься, все никак жить не начнешь.
Мне казалось, что, практический неподвижный в своем креслице, он гладит меня по голове, и мне вдруг стало так хорошо, так покойно, и я откуда-то уже знала, что все уже случилось и откроется сейчас и, как было, уже не будет никогда.
- Ради дара твоего осталась ты жить. Смотришь, а не видишь, а когда видишь, то боишься знать. Времени у меня мало, потому говорю тебе: будешь к себе строга, а к людям добра, все у тебя и будет, нечего тебе, кроме собственного страха, бояться.
Он замолчал, я сидела как вкопанная: ни слов, ни мыслей. Только острая непереносимая боль. И серый туман в глазах. И продолжая так сидеть, я чувствовала, что припала к нему, к немощной его руке, с кожей, сухой, почти пергаментной, но такой теплой и живой, как бывает не у всякого молодого, как к последнему оплоту, и наконец, облегченно и, оказывается, долгожданно заплакала, навзрыд, не скрываясь, без капли стеснения. А он все гладил и гладил меня по голове и шептал, как когда-то бабушка Марина, вынувшая меня из петли: "Все хорошо, все обошлось". И когда я наконец затихла, обессиленная, уже исчезая вместе со своим креслицем, кельей и иконами, ясно прошептал: "Помоги Катерине, и она тебе поможет, не бросайте друг друга, - и еще тише, почти совсем не слышно, - прости родителей своих. Нет их вины перед тобой. На все воля Божья".
Я открыла глаза резко, как проснулась, причем не выплывая из тумана и постепенно возвращаясь в плотную реальность, как это часто бывает. А проснулась вся и почувствовала, что тут, сейчас, я, наконец, вся, во всей полноте своих мыслей, чувств, сил и возможностей. Это было новое, практически незнакомое ощущение. Оно было очень близко тому чувству хрустальной ясности, когда чуть плывущий фокус вдруг настраивается и все видится необыкновенно четко и свежо.
- Чай будешь? - Катерина сидела напротив все на той же табуретке, такая настоящая, такая живая, только тень тревоги в глазах еще не успела рассеяться.
- Доктор, не волнуйтесь, жить буду, причем, похоже, долго.
Не знаю, сколько мы хохотали, подхваченные какой-то легкой счастливой волной, но чай давно остыл. Чапа, огорченный невниманием, убрел в коридор под вешалку, а на нас все накатывали и накатывали новые волны смеха, как будто сейчас, здесь, сию минуту, мы должны были добрать всю причитавшуюся нам за жизнь, но так и не востребованную по глупому неведению долю радости.
- А клиент-то где? - наконец выдавила я сквозь смех.
Она только махнула рукой на дверь, поясняя, что ушел, и, отвечая на мой немой вопрос, также с трудом сквозь сбившееся дыхание, прошептала, прохрипела:
- Все у него будет хорошо. День сегодня такой.
* * *
Кое-как приведя себя в порядок, сначала внутри, а потом и снаружи, я крадучись выбралась из своего укрытия. "Ну, опозорилась так опозорилась - не проводить же теперь остаток ночи в дамской комнате". На мое счастье холл был пуст. Все, окончен бал, гасите свечи. Надо убираться от сюда.
- Тебя домой отвезти? Ты вроде как без машины сегодня?
- Все-то ты, Ваня, знаешь. Вези.
Почти убаюканная легким покачиванием, я совсем успокоилась в уютном чреве "шестисотого". А вы что думаете, Иван мог ездить на чем-нибудь другом? И только тут поняла, что мы как-то уж слишком долго едем до моего дома.
- А я смотрю, ты совсем смурная сегодня, вот и решил, что тебе покататься будет совсем не вредно, - сообщил Иван в ответ на мой молчаливый вопрос.
- И куда мы "катаемся", если не секрет?
- Ну, куда, куда? На залив, конечно. - Иван опустил тонированные до полной черноты и противозаконности стекла. Мы уже выкатились из города. Воспетая сотни раз гениями и бездарями осень этих краев - смесь влаги, золота листвы и темной хвои - подступала к самой дороге.
- К "водопою", - скомандовал он водителю, - Если ты не против, конечно.
Я была не против.
"Водопоем" в определенных кругах называли очень симпатичную шашлычную, проросшую прямо на берегу залива. Одно из первых частных предприятий общепита, она была сначала маленькой и захудалой, но оборотистость хозяев, мощное покровительство и неизменно превосходное качество постоянно расширяющегося меню превратили бывшую захудалую точку в главное место питания и отдыха в этом районе.
Был у нее еще один несомненный плюс: работали круглосуточно. Здесь было спокойно, безопасно и вкусно. Сюда по выходным съезжались с детьми и женами такие люди, которые в рабочее время ни под каким видом не могли оказаться на одной территории. Да и представить их в роли заботливых отцов и внимательных и снисходительных мужей в рабочее время мог только человек с совершенно необузданным воображением. Вот отсюда и название: звери на водопое ведь тоже соблюдают нейтралитет.
Мое любимое место: беседка на самом берегу, которую обогревал мощный калорифер в виде уличного фонаря, - оказалось свободно, как, собственно, и вся остальная территория. Я даже не заметила, был ли здесь кто-нибудь еще кроме нашей "романтической" компании. Иван отдал несколько тихих распоряжений, но даже запах легендарного шашлыка не смог вывести меня из того странного состояния, которое то отодвигалось ненадолго, то вновь охватывало меня весь сегодняшний вечер. Мужчины деликатно оставили даму в покое, и их негромкие голоса на другом конце стола сливались с шумом ветра и редкими всплесками волн тяжелого и мрачного в это время года залива.
"Мистериальность бытия, мистериальность бытия…" Странное словосочетание, какое-то совсем не мое, незнакомое, непонятное, кружилось и кружилось у меня в голове, как попавший в воздушный водоворот желтый осенний лист. И так же, как за листом, который все кружил и не как не мог упасть, я наблюдала за этими словами. Что-то приближалось. Предчувствие, воспоминание?
"Мистериальность бытия таит спасенье от печали.
Друзья, которых мы теряли, к нам возвращаются.
Всегда".
* * *
Концерт подходил к концу. Финальная часть Шестой симфонии Чайковского: мрачная, невыносимая и прекрасная - захлестывала душу, не давая возможности сбежать или отвлечься. Я не могу сказать, что я люблю эту музыку - она из тех явлений, которым все равно, любят их или нет.
Как и всякую приличную девочку из хорошей семьи, меня в детстве так намучили музыкальной школой, что если бы не удивительное везение со странным именем Ила Григорьевна, мой педагог, то уж от чего-чего, а от трат времени и денег на посещение филармонии я была бы освобождена на всю оставшуюся жизнь. Но эта маленькая, поперек себя шире, с бешеным темпераментом и ручками-сардельками тетка, которая предпочитала заниматься с учениками дома, чтобы успеть по ходу урока переделать еще и кучу домашних дел, была потрясающим педагогом и прекрасной пианисткой.
Всю жизнь она учила оболтусов вроде меня и аккомпанировала своему мужу - милому, тихому, довольно известному виолончелисту, профессору нашей консерватории. Как она ухитрялась извлекать из старого, заслуженного, заваленного всем чем угодно, но изумительно звучащего "Bekker"-а не просто звуки, а музыку, я не знаю до сих пор.
В шелковом китайском халате с драконом и торчащей из-под него ночной сорочке, удивительная и невозможная в своей карикатурности: ноги тонкие, на них живот, на животе грудь, на груди подбородок и все это при росте чуть больше полутора метров, - она вылетала из кухни, где все время что-то пригорало, с визгом: "Ля бемоль, сколько можно долдонить! Ля бемоль!" Отталкивала тебя от рояля, и сардельки извлекали из инструмента очередной виртуозный пассаж.
Проникнувшись через несколько лет моими страданиями, она предложила мне компромисс:
- Слушай, из тебя музыкант, как из меня балерина. Но раз уж так сложилось, и мы мучаемся и тратим деньги твоих родителей уже столько лет, то пусть от этого будет хоть какая-то польза. Я не могу научить тебя играть Музыку, - и по выражению ее лица, конечно, было совершенно ясно, что виновата в этом не она, - но я могу, - она вся подобралась, как-то даже постройнела и помолодела на глазах, - я могу научить тебя ее слушать.
С тех пор огромная, захламленная комната, которая всегда выглядела так, будто хозяйка вышла, бросив в самом разгаре генеральную уборку, перестала быть комнатой пыток.
Она никогда не произносила пошлых слов о труде души, но именно это происходило каждый раз, когда она садилась за рояль и играла и объясняла что-то по ходу о правилах и законах композиции, о том, почему невозможно перепутать Баха и Бетховена, Скрябина и Стравинского. А потом она совсем перестала что-либо объяснять, но, продолжая играть, не давала мне ни на минуту отвлечься, открыв самую главную тайну: слушать классическую музыку - это тяжкий труд, почти такой же тяжкий, как исполнять ее.
- Если ты катаешься на лодке по морю, то ты увидишь небо, может быть, берег, может быть, другие лодки и пароход, может быть, купальщиков, смех и крики на берегу, но ты никогда не узнаешь ничего о море, пока не погрузишься в него, не занырнешь в глубину, не соединишься с ним. С музыкой так же.
- А удовольствие, а наслаждение? - робко блеяла я.
- Удовольствие, моя дорогая, - это переживание, это боль, страсть и радость, это совершенство, которое войдет в тебя и от которого ты уже никуда не денешься, а если тебя это не устраивает, то можешь встать, уйти навсегда и играть в свой волейбол. Мне совершенно неинтересно иметь дело с человеком, которому вместо того, чтобы стать океаном, хочется быть тем, что так без труда плавает по его поверхности, - иногда она пыталась быть очень деликатной.
Финальная часть достигла своей кульминации. Простите меня, Ила Григорьевна, я впервые за много лет нарушила ваш завет. Я вынырнула из глубины и отвлеклась, и даже то, что я отвлеклась на воспоминания о вас, в ваших глазах вряд ли было бы достаточным для такого постыдного поступка оправданием.
Разве что… Разве что одно. Только две стихии, музыка и вода, давали мне ощущение прямого, чувственного соприкосновения с миром. Как вода ласкала и принимала мое тело, когда, заплыв черт знает куда, распластавшись, лежала я на спине в ожидании момента, где уже не отделить себя от нее, и ее от себя, так ласкала и проникала внутрь и принимала в себя мою душу музыка. Вы это хотели мне сказать? И не могли, наверное, найти слов, чтобы вас понял сидевший перед вами ребенок. Вам удалось, вам удалось, может быть, не сказать, а сыграть, передать в тех восхитительных звуках, которые ваши совершенно не музыкальные, толстенькие, кое-как ухоженные ручки умели извлекать из многострадального рояля. Благодаря вам, дорогая, я уже никогда в жизни не спутаю кряхтение штангиста, поднимающего рекордный вес, неудержимый стон наслаждения и рычание страсти. Эх, дура я, дура. Буратино, вот же твой золотой ключик.
Зал зашумел, зааплодировал, задвигался. Я давно заметила, чем сложнее и напряженнее программа, тем громче и суетнее публика в антракте. Большинство так спешит избавиться от только что пережитого или хотя бы услышанного, что начинает казаться, что приходят они сюда не по доброй воле, а в наказание, в нагрузку или по обязанности.
Я продолжала сидеть в почти опустевшем зале. Воздух, казалось, еще дрожал от последних аккордов, тень Илы Григорьевны, так неожиданно меня навестившая, медленно таяла, оставляя во мне какое-то послание, которое я не могла еще до конца понять, но которое не хотела забыть или потерять.
- Ну, как же, как же! Если уж мы, люди необразованные, темные, не могли пропустить такой концерт, то уж тебя-то я точно знала, что тут найду!
Господи, прости мою душу грешную, Люська! Да, это была, пожалуй, самая неожиданная встреча из всех возможных. Я могла представить, что неожиданно и одновременно ожидаемо встречу ее в каком-нибудь из популярных кафе… Или прогуливающейся по "Броду", как было принято называть центральную часть главной улицы нашего города. Это была ярмарка, подиум и клуб на открытом воздухе одновременно. Здесь было принято, как бы теперь сказали, "тусоваться", когда хотелось себя показать и на людей посмотреть. Сюда приходили, чтобы "нечаянно" встретить того или ту, кого хотели встретить больше всего на свете, но не хотели это показывать, оставляя себе пространство для маневра в извечных павлиньих играх, которые во все времена составляют главную часть жизни молодых людей.
Но Люська? Здесь, в филармонии?! Яркая, как райская птица, в немыслимом мини (не забудьте, это была его первая волна), в декольтированной майке и туфлях на платформе, - и это при ее-то росте, здесь, в филармонии, куда было принято одеваться "прилично": блузочка, юбочка, платьице, туфельки, сумочка, все черненько, беленько, серенькое, какого бы цвета ни было! Люська, при всем параде, да еще не одна, а, как полагается всякой уважающей себя диве, с эскортом из впечатляющих мальчиков в джинсах!
- Ты-то что тут делаешь? - по-моему, я даже нахамила от неожиданности. Но разве я могла хоть когда-нибудь смутить Люську?
- Да, собственно, тебя ищу.
Люська? Меня? В филармонии?
- Господи! Что? - ну не могла я ждать ничего хорошего от такого невероятного события. Люська меня ищет!
- Так ты действительно еще ничего не знаешь? Ты же уже неделю как из Крыма вернулась. А я вот только сегодня с матерью из Польши приехала, - как шикарно это звучало в те времена: "вернулась из Польши". Ну и что, что теперь это называется "челнок", тогда - это была "Заграница" (именно так, с большой буквы). - И уже в курсе.
- Ты точно ничего не знаешь? Твоя же мать моей сразу все и рассказала. - Она продолжала тараторить, не забывая оглядываться вокруг, засекая привычно каждый взгляд, который бросали на нее восхищенные мужчины и завистливые женщины, постепенно заполнявшие зал после антракта. У меня закружилась голова, шумело в ушах, в глазах потемнело, и я все сжимала и сжимала кулак, чтобы боль от впивающихся в ладонь ногтей не дала мне потерять сознание.
- Это случилось в первый же вечер после их приезда. Они купаться пошли, а там дно зыбучее, а им никто не сказал, Яков и еще двое из тех, кто хорошо плавал, остальным помогали, а их все затягивало. Ну, в общем, они не успели, их засосало. Пять человек погибло. Ты что действительно не знала?.. Так твоя же мать…
Было уже совсем темно, а я все шла и шла из филармонии домой.
"С корабля писать не буду, совсем, как в твоей уважаемой литературе. Два месяца разлуки, а потом - раз и свадьба". Эту записку я нашла в почтовом ящике тогда, в начале каникул. Два месяца заканчивались через неделю.
- Только не надо трагедий - так встретила меня моя мать, когда эта бесконечная дорога от филармонии домой наконец закончилось. - Все уже случилось, ничего не изменить, и вообще их уже месяц, как похоронили.
Их - месяц, меня - только что, но разницы почти никакой. Вот уж в чем моя мать действительно права - все уже случилось.
Так странно. Она говорила все это прямо на пороге, не давая мне войти в дом, как будто решала, пускать меня или нет, то ли ждала, что я сама сейчас развернусь и уйду.
"За что, за что мне ее прощать, батюшка. Я никогда даже в самые горькие минуты ни в чем не винила своих родителей. Я любила их, любила, как могла".
Она все не пропускала меня, и я стояла перед ней, боясь сказать хоть слово, почти не дыша, в своем окаменении. Я никогда не видела у нее такого лица. Неживая холодная маска с провалами глазниц.
- Что там у вас происходит? - недовольный каким-то странным непорядком в доме, моим поздним возвращением и нашей затянувшейся возней в прихожей, раздался из глубины квартиры голос моего отца.
- Все хорошо. Просто Соня после концерта решила пешком пройтись, вот и задержалась. - Мягкий голос, мгновенная реакция преданной и заботливой жены. Вся как-то вдруг обмякла, движения привычно чуть суетливые, роскошные волосы, - предмет моей вечной зависти и ее почти не скрываемого тщеславия, распускавшиеся во всю красу только когда одна, только когда никто не видит: "Жаль что волосами ты не в меня. У тебя всегда такие то-о-о-ненькие косички получаются", привычным движением потуже переколола, халат поплотнее запахнула. Никаких масок, никаких наваждений: мать, жена, хозяйка. - Иди к себе и не вздумай там истерику устраивать. Отец еще не спит. У него сердце, ему нельзя волноваться.
Все встало на свои места.
- Говорил я тебе: дура, ты дура и есть, - шелестнул старческий смех. - И сейчас не догадалась. Ну, ну…
Господи, куда смотрели мои глаза, где была моя голова! Вот уж действительно, как выговоришь эти волшебные слова: "мама", "папа", - так считай все, никаких надежд за ними людей рассмотреть. Хорошие родители, плохие родители, повезло с родителями, не повезло с родителями - тут все спецы. И про своих, и про чужих. А вот что это за люди такие, которых послала реальность тебе в родители. Что у них там за стенами пространства, которое мы называем "моя мать", "мой отец"? Кто знает, кто этим озабачивался? Кто изучал?
Эта женщина, которая стояла тогда на пороге, решая мою судьбу, она была такая же, как я, или нет, это я была ее копия. И она знала это про себя и про меня и, отказавшись в себе от своей судьбы, до последних дней своих делала все, чтобы и я о своей не узнала.
Господи! Прости нас обеих!
Правда, была еще интермедия. Приезжала мать Якова. Младшенький знал, где меня искать. И эта убитая горем, большая, неопрятная, громкая женщина, которая никак не соединялась для меня с Яковом, несколько часов плакала, смеялась, вспоминала, спрашивала, сетовала на судьбу и бесконечно сожалела, что я не беременна и у нее не останется внука от ее дорогого сына. Она собственно ехала ко мне в полной уверенности, что я жду ребенка, а иначе почему такая спешка со свадьбой? Что я могла ей сказать, чем утешить? Вежливая кукла с моим именем и внешностью могла только соблюдать приличия. Я проводила ее на вокзал, подождала, пока тронется поезд… и плотно, на тяжелый замок и глухой засов, думая, что навсегда, закрыла дверь туда, где был Яков, был мир и была я.
* * *
- Что-то ты, Сонечка, совсем плоха. - Иван сунул мне в руку бокал с безотказным средством от всех бед и болезней и остался тихо сидеть рядом. Наконец-то я до конца разгадала послание, которое оставила мне моя обожаемая безумная музыкантша: все, что вошло в душу, остается там навсегда. На какие замки ни запирай, какие засовы ни ставь, ничто никуда не девается.
- А знаешь, дорогая, они же все уверены, что мы с тобой уже давно… - Иван как-то неловко, что совсем на него было не похоже, замялся. - Я и сам не понимаю: а почему у нас с тобой никогда ничего? Что касается меня, то я всей душой, да и ты, по-моему, ничего против меня не имеешь.
Он говорил это, продолжая упорно смотреть в темноту, и мне казалось, что наши взгляды пересекаются там вдалеке, как пересекаются во тьме лучи прожекторов. И ничего в этом далеке не было, ничто нас там не ждало, и все, что могло произойти, происходило именно сейчас.
- Нет, Ванечка, ничего такого между нами нет и не будет, и совсем не потому, что кто-то из нас "против", а именно потому, что оба мы "за". Такая у нас с тобой, Иван, любовь. Мы с тобой друг друга в душу впустили, как это случилось, почему, не знаю, да и кто это может знать. Нам там хорошо, и надежно, и спокойно. А этого добра… Что у меня, что у тебя. Сколько его было? А что осталось? А тут душа! Нет, Иван, я это ни на какое кувырканье с самой распрекрасной акробатикой не променяю.
Иван молчал. Темнота стерла границы воды и неба, и свет прожекторов превратился в зыбкую дорожку над бездной.
Вся ошибка идущих по пути в том, что они рвутся к свету, отрекаясь ради него от живой жизни, выбрав свет, они выбирают смерть, и противоречие это для многих совершенно не разрешимо, жизнь и свет никак не могут для них соединиться. Но если стать прозрачным для света и, повернувшись спиной к его источнику, встать на самом острие луча, на пределе возможного, открыто и без страха, то можно, пропуская свет через себя, увеличивать протяженность этого луча, и хоть на шаг, но уменьшить количество хаоса и тьмы, и через себя, прозрачного, но живого, соединить свет и жизнь.
Тихий, хрупкий, совершенно неприметный человек, истинный воин, рассказал мне об этом, как рассказывает великий Мастер ученику на прощание о последней и тайной уловке воина, зная, что ученик еще не готов ее воспринять и сейчас же забудет рассказ учителя, но придет момент, и этот рассказ будет именно тем, что даст его ученику шанс выжить в смертельном бою.
Есть у меня, Ванечка, друг, поэт, и несмотря на то что поэт, мужик рисковый и до мозга костей авантюрный, а может, именно потому и поэт. Да не суть… Один из его романов называется "Предел наслаждения" и тем мне и близок, что куда бы ни вело, всюду мне этого предела хочется и чуется мне, что мы с тобой друг для друга такой вот предел и есть.
Когда я спохватилась, с кем, как и о чем я вообще разговариваю, было уже поздно. У меня даже губы онемели со страха. От Ивана можно было ждать всего. Темная волна поднялась, как чудовище со дна океана, поднялась и застыла, как будто хозяин морей раздумывал, обрушить ли ее сразу в полную силу или поиграть с этой дурой, решившей, что ей все можно. Поднялась, замерла… и отступила. Неужели пожалел? Казалось, даже воздух стал гуще, и деревья перестали поскрипывать, и люди замолчали.
И уже не колокольчики мои любимые позвякивали нежно и хрустально, а медленно набирая силу, гудели многотонные колокола, тревожно и предупреждающе.
Эротическое напряжение дороги приближалось к своей кульминации. Мы подъезжали к переправе, и восемьсот километров плавно нарастающего изысканного напряжения обрели новое качество и звучание.
Переправа, как последний шанс, после которого уже ничего не изменить, как окончательное решение, хотя все уже было давно и бесповоротно решено. Мы промолчали почти всю дорогу. Разве можно назвать разговорами короткие реплики бытовой необходимости. Мы наслаждались этим молчанием и дорогой, ничего не предвкушая, ни о чем не загадывая. Изысканно эротический стиль жизни позволял быть и наслаждаться сиюминутностью. И это было так же естественно и так же странно, как сидеть в машине и никуда не ехать, а плыть вместе со множеством других машин и людей на пароме, мерно качающемся на волнах. Этакая маленькая модель Земли, которая мерно кружится во Вселенной, но об этом почти никто никогда не помнит. Кто помнит, что он не только идет, едет, спит, говорит, ест, любит, но и все время кружит и кружит в бесконечном космическом пространстве вместе со всем, что есть на планете?
Узкая дорога за переправой приняла нас, как родовой замок принимает юного наследника, - доброжелательно, приветливо и настороженно. Как будто еще не решено, открывать ли вновь прибывшему все тайные закоулки и большие и маленькие секреты, показать ли все самые потаенные и самые прекрасные уголки или, соблюдая вежливость и приличия, позволить ему самому разбираться в происходящем, посмеиваясь из-за угла над его неловкостью и ошибками.
Я вела машину все эти восемьсот километров, и внутренний ритм путешествия отзывался во мне как музыка. Меньше всего на свете хотелось мне сейчас, здесь оказавшись, наконец, на этой вымечтанной дороге в преддверии этих четырех дней, которые, может быть, никогда и не случатся, потерять ритм и развеять наваждение.
Мягкие повороты узкой ухоженной дороги баюкали и обещали. Вот между ветками елей первый раз голубым серебром мелькнуло море, вот дорога пролегла сквозь малюсенький, как домик Барби, но совершенно настоящий городок. Все, как у больших: автобусная станция, ресторан, муниципалитет и полицейский участок, школа и коттеджи, виллы, особняки. Правда, жители на Барби совершенно не похожи. Неяркие, спокойные, неспешно передвигающиеся от мала до велика на велосипедах. Пока я обо всем этом думала, городок исчез за очередным поворотом, и снова сосны, ели, проблески моря, редкие встречные машины.
Мой любимый впервые в этих краях, и совершенно не хочется портить ему наслаждение первой встречи своими пояснениями почти местного жителя или того хуже рассказами многоопытной тетки о прежних визитах в эти места и первых впечатлениях.
В эротических играх ценится только творчество и спонтанность. Многажды повторенный эротический прием сначала теряет остроту, потом превращается в пустой рутинный ритуал. Мы первый раз здесь вместе, значит, и я здесь первый раз.
Вставшая перед глазами картина тоже не была воспоминанием. Она просто была здесь одновременно с дорогой, шумом колес, все более ясным запахом моря.
Он спал на спине, вольно раскинувшись, и я подумала, что даже во сне редко кто бывает так естественен и органичен. Мне впервые казалось красивым мужское тело с нежной светлой кожей, почти совершенно лишенной волос, и даже мягкий треугольник внизу только оттенял изящество расслабленного, как и все тело, естества. Даже во сне было видно, какое это гибкое и сильное тело. Этот спящий глубоким сном молодой мужчина был открыт, свободен и непорочен.
Я любила смотреть на него, когда он спал, так же, как любила его пластику молодого волка, его возбуждающий запах и характерный, чуть терпкий, вкус.
В освещенной первыми лучами спальне пахло свежестью морозного утра, коньяком и любовью.
Перед каждой новой встречей я благоразумно решала не спешить. Но стоило нам остаться вдвоем, как струна, отпущенная на весь день, натягивалась, подобно струне скрипки, которую настраивает скрипач, когда зал уже полон и публика замерла в ожидании. Я подъезжала к месту, где он ждал, он садился в машину, мы даже не целовались, долгий взгляд, легкое касание, тихий первый звон.
Мы заезжали в магазин, развлекаясь сочинением сложнейших блюд и подбором необходимых для них продуктов. Потом с хохотом покупали что-нибудь совсем простое, чтобы не тратить время на возню на кухне, и ехали домой. Взгляд, касание, улыбка, как зарница, отблеск еще далекой, но неотвратимой грозы.
Приготовление ужина, мелкие дела, легкая болтовня и серьезные долгие разговоры - все это было похоже на музыкальную немузыку оркестровой ямы перед началом увертюры. Первые языки пламени, настройка, приближающаяся гармония.
Мы любили постель и никогда не кидались в нее очертя голову. Мы разыгрывали ее приближение, как старинную пьесу, каждый раз находя новые детали и нюансы, удивляя друг друга неожиданными находками и изящными сюрпризами.
Невозможно было решить, что приятнее: ждать, то расслабленно и открыто, то собранно и напряженно, почти как перед боем, или входить то в освещенную тоненькой свечой, становящуюся совершенно незнакомой с незнакомыми ароматами комнату, где на темных простынях матово светилось желанное тело, то в ярко освещенную спальню, где тебя ждут с терпеливым желанием, спокойно и уверенно.
Звук, похожий на вой волка и шипение разъяренной дикой кошки, рождался, когда уже было недостаточно влажной нежности языка, изощренного касания губ, легкой, жгучей игры пальцев и обжигающих прикосновений, когда вслед за легким шипящим и сверкающим, похожим на бенгальский первым пламенем из глубин поднималось и захлестывало темное пламя страсти, мрачный и суровый огонь земных глубин, никогда не видевший света. И тогда появлялась боль. Не выдуманная бессильным и холодным умом для возбуждения бессильной же плоти, а боль, рожденная неистовым стремлением преодолеть последний разделительный барьер, когда даже предельная близость плоти - помеха, всего лишь последнее препятствие между рвущимися к единению существами. Именно тогда появлялась боль, острота ногтей, зубов и никем уже не контролируемая сила рук и объятий. В первобытной смеси огня, боли и наслаждения рушились границы и исчезало время. Прорвавшись друг к другу, два существа сливались в нечто третье и взмывали к свету, оставляя внизу расслабленную, разгоряченную и удовлетворенную плоть.
Звон становился все громче, все многообразнее, и совсем другой звук, вибрирующий и прекрасный, звучал… или только слышался?
Он спал на спине, вольно раскинувшись, и я подумала, что даже во сне редко кто бывает так естественен и органичен.
Я любила смотреть на него, когда он спал, так же, как любила его пластику молодого волка, его возбуждающий запах и характерный, чуть терпкий, вкус.
В комнате все так же пахло им, мною, коньяком и любовью.
А колокола все звонили и звонили, и был то не благовест, то был набат.
Шторм, наконец-то шторм. Развернутый ветром черный флаг над спасательной станцией, летящий мелкий, как мука, и почти такой же белый песок. Ставшая вдруг темной и плотной вода оттеняет белоснежные буруны на верхушках волн. Люди, кажется сошедшие с ума, скачут в этих волнах у самого берега, оказываясь в воде то по щиколотку, то с головой, исчезают в набегающих волнах. Глаза сверкают, рты раскрыты, но кто тут услышит их визг и смех? Только грохот волн и свист ветра, и небо - синее, чистое, как свеже вымытый пол, и солнце, превратившее этот безумный мир в мир из жемчуга и изумрудов.
В наглой уверенности, что со мной в море никогда ничего не может случиться, я ныряла и ныряла под волны, наслаждаясь не на шутку разыгравшимся штормом. Несколько сильных гребков в тишине и покое, и рывок наверх, где вздох, грохот, сверкание и опять глубина, тишина и солнечные блики, отражающиеся в этой глубине.
Перстень, который я носила уже много лет, никогда не снимая, предательски соскользнул с пальца именно в тот момент, когда уже надо было наверх, но куда там. Я рванулась за ним к самому дну, успела схватить, прежде чем он зарылся в песок, но… ритм был потерян. На мою едва показавшуюся над водой голову обрушилась очередная волна. Как я потом поняла, меня, полуоглушенную, болтало и носило всего несколько мгновений, но, как часто справедливы банальности, мне они показались вечностью. И все-таки я не боялась моря. Меня спас инстинкт, я не стала рваться наверх и пытаться выплыть, не зная, где я и что там, наверху, нет, уйдя, сколь смогла, ко дну, я расслабленно доверилась воде, и она вынесла меня наверх, ну а там уже все было просто. Море не подвело. Предостерегло, пригрозило, но… не подвело.
- В серьезную игру ввязались, Сонечка, и все-таки при всем уважении, надеюсь, у вас найдется, чем ответить?
Нас осталось двое. Остальные игроки давно сбросили карты и в полной тишине напряженно наблюдали за тем, что происходило за столом. Незнакомое казино, незнакомые игроки, только серьезные рекомендации позволили мне участвовать в этой игре. Мой противник снял традиционные черные очки, взгляд прямой и холодный, профессионально безразличный взгляд игрока в покер.
- Шаг вперед, дорогая, шаг вперед.
Надеясь, что выражение моего лица столь же холодно и безразлично, не отводя взгляд от партнера, нарочито медленно и небрежно - все фишки одним движением на центр стола.
- Ва-банк. Вскрываемся.
Есть у меня для тебя, Иван, одна байка. Рецепт для осуществления самой изысканной чувственной мечты.
Думал ли ты когда-нибудь, Ванечка, о том, что жить в наслаждении надо уметь так же, как жить в роскоши. И что и тому и другому порой приходится учиться всю жизнь.
Я заговорила прежде, чем осознала, что я делаю, но ведь и тогда в море я спаслась именно потому, что думать было некогда.
Ранним утром, таким ранним, что оно еще почти ночь, будишь дремлющего в круголосуточно работающем цветочном магазине у причала продавца и сообщаешь ему, что тебе срочно, сию секунду необходима сто двадцать одна роза. Именно сто двадцать одна, ни розой больше, ни розой меньше. Сообщаешь ему, совершенно ошарашенному вашим заказом, что они должны быть одного сорта и трех цветов, причем темно-бордовых нужно ровно восемьдесят, розовых сорок и одна белая.
Только делать это надо не одному, вы обязательно должны быть вдвоем с той, ради которой. Вы так вдохновляете его своим желанием, что он, совершенно проснувшись, вопреки всем правилам, бросает вас одних в магазинчике, где, конечно, в этот неурочный для торговли час ничего подобного нет, и отправляется отпирать склад. Потому что если человек продает цветы в курортном городе ночью, то он, несомненно, немножко сумасшедший романтик и ни за что не упустит возможность совместить приятное с выгодным: продать такое количество товара и поучаствовать в событии, которое послужит ему пищей для долгих рассказов и домыслов вместе с коллегами и будущими покупателями ни на один день вперед. Тяжесть вашей покупки окажется совершенно непомерной. Вы ловите припозднившегося водителя, который совершенно не хочет заработать немного денег в такой час, а просто спешит домой, но магия вашего груза очаровывает и его, и он уже никуда не спешит, и заинтригован, и, конечно же, какие деньги, когда в его глазах только один изумленный вопрос.
Nota bene! Ни в коем случае ничего не объясняйте. Не отвечайте ни на прямые, ни на молчаливые вопросы. Вы испортите все!
Ваш груз доставлен. Вы вносите его в комнату по частям, небрежно сбрасывая охапки роз на пол, и… никуда не спешите. Вы можете выпить чаю или вина, вы можете выйти на балкон покурить или молча, обнявшись, смотреть друг на друга, ощущая, как запах роз наполняет комнату и как медленно начинает кружиться голова. Но вот один из вас берет в руки первый цветок и обрывает первые лепестки, и они небрежно рассыпаются на раскрытой постели, как будто сами собрались насладиться на ней любовью.
Если ты никогда еще не видел, что такое лепестки ста двадцать одной розы, рассыпанные на постели, если твоя голова никогда еще не кружилась от их запаха, а уши не знакомы с тем ни на что не похожим звуком, который издают эти лепестки, когда на них наконец опускаются тела любовников, я тебе завидую, потому что у тебя еще все будет.
А дальше, дальше, как обычно пишут в рецептах: по вкусу. Наслаждайтесь. Вы не разочаруетесь.
Жить в наслаждении, Иван, надо уметь так же, как жить в роскоши. И тому и другому порой приходится учиться всю жизнь.
* * *
Похоже, что Иван был не просто удивлен или обижен моей тирадой. Он был - ошарашен. Когда я наконец решилась поднять на него глаза, он все еще смотрел на меня, как старатель на только что найденный слиток - то ли действительно невиданная удача, то ли опять все труды зря. Так ничего и не решив, пробурчал что-то типа "ну, как хочешь". И рявкнул, как старшина на плацу: "Все, чего расселись, погнали!"
Он одним взглядом шуганул охрану из машины, сам сел за руль и втопил педаль газа в пол с таким остервенением, что мне уже никогда не усомниться, до чего же хорошо относится ко мне этот необузданный пренебрегающий человеческими и, боюсь, иногда и божескими законами человек. Он гнал импозантного, рассчитанного на благородную аристократическую жизнь "немца" так, что я была готова к тому, что каждый поворот и каждый перекресток могут стать последним в моей жизни. Не знаю, как уж там справлялось сопровождение, но ни оглядываться на них, ни пугаться у меня не было ни сил, ни желания. Он остановился около моего дома. Ох, все-то ты знаешь, Иван.
Заблокировал дверь, чтобы я не выскочила раньше времени, и, рывком повернув меня к себе, выговорил голосом, который я никогда не слышала и вряд ли бы хотела еще когда-нибудь услышать:
- Я тебя не кувыркаться звал, я тебя в жены зову. Думай. Решишь, скажешь, а до тех пор будет, как было.
Перегнулся через меня, открыл дверь и, с трудом дождавшись, пока я выйду из машины, сорвал с места неповоротливую тушу "мерина", как будто это был какой-нибудь прыткий "порш".
Ну вот, весь романтический антураж на месте: ночь, осень, дождь и желтые листья на мокром асфальте. "Приплыли". Картина неизвестного художника. Домой идти не хотелось, и я не нашла ничего лучшего, чем забраться в собственную машину, которая стояла тут же у подъезда, - старый испытанный способ уединения. Даже мобильник выключила. Двигатель тихо урчал, мне стало тепло и уютно. Ну да, для таких, как я, машина - это что-то вместо кошки, для снятия стресса.
* * *
Я увидела себя, расслабленную и мертвенно спокойную, лежащей на развороченной постели и слышала глубокое дыхание спящего удовлетворенного мужчины. На потолке лепнина, хрусталь и неизменные пастушки. Номер в шикарной гостинице, слишком роскошный, чтобы быть элегантным, но на удивление уютный от всей этой бронзы, позолоты и огромных фарфоровых ваз с живыми, в зеленовато-желтых тонах подобранными букетами.
Я всегда знала, что мне нет никакой необходимости ложиться с мужчиной в постель, чтобы понять, какой он любовник, я даже тайно гордилась этим даром и иногда сама с собой заключала пари. Многие из моих мимолетных приключений только потому и случались, что игроцкий азарт требовал проверки ставок. Если бы знали об этом так гордящиеся своими победами мужчины!
Но в этот раз рядом спокойно спал тот, кто заставил меня проиграть самую большую ставку. Этот мужчина не оправдал ни одного из моих ожиданий, но как будто по книге прочел все мои тайные мечты. Я поняла, что проиграла с первой же минуты.
Во-первых, он молчал. Не произнес ни звука, буквально, ни звука.
Во-вторых, он был абсолютно неспешен, то, что он делал со мной, именно так: "он делал", при полном моем согласии и абсолютной покорности - нельзя было назвать занятием любовью; то, что в течение нескольких часов происходило в этой комнате, имело только одно название - пытка. Это была пытка все более изощренной и обостряющейся от витка к витку чувственностью, когда ощущения постепенно становятся так остры, что переходят в настоящую физическую боль, и именно эта невыносимость всегда была моей тайной и до сего момента, казалось, совершенно неисполнимой мечтой.
Он не дал мне ни одного шанса увернуться от этой пытки и сбросить напряжение, и все мое существо под его умелыми руками, доходившее до пределов напряжения, в очередной раз расслаблялось, не потеряв ни капли энергии, готовое брать и брать ее до бесконечности. И когда наконец предел наслаждения был достигнут, выброс этой энергии был таков, что мелькнувшая на краю сознания, затопленного чувственностью, мысль: древние были правы и от такого умирают, потому что душа в этот момент покидает тело, - показалась мне совершено естественной.
Вы когда-нибудь пытались вылететь в космос без скафандра? Если да, то вы можете себе представить нечто похожее на то, что я почувствовала в момент, когда мой "мучитель" отпустил меня в этот полет. Мне казалось, тело мое осталось на земле только благодаря тому, что я продолжала чувствовать его руку внутри себя и его губы на своих губах. А еще я почувствовала, как он стремительно овладел этим пустым, оставшимся без меня телом, как будто торопился вселить в него новую жизнь, пока оно, брошенное хозяйкой, не рассталось с ней навсегда.
* * *
Переходы:
2002 - 2017 © с а й т О л ь г и Л е в и н о й