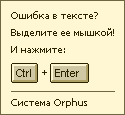Н Л П ( N L P ) :: Р Э Й К И :: Х О Л О Д И Н А М И К А
С т у д и я л и ч н о г о р а з в и т и я
И з р а и л ь :: Х а й ф а
РЭЙКИ. СТУПЕНЬ 1
РЭЙКИ. СТУПЕНЬ 2
ХОЛОДИНАМИКА-1
ВСТРЕЧА С
ПОТЕНЦИАЛОМ
ИГРЫ НОВОГО КОДА
РЕЗОНАНСНОЕ
ОБЩЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ЭМОЦИЯМИ
СБЫЧА МЕЧТ
УСУИ РЭЙКИ РИОХО-1
Ева Весельницкая. История болезни. Пространство Традиции
* * *
А началось все совсем не с игры. Началось все с моей абсолютной неспособности прыгать через скакалку и играть в "классы". Нет, у меня не было никаких физических дефектов, просто занятия эти казались мне какими-то глупыми, нелепыми, но не участвовать в них значило не участвовать ни в чем, незачем выходить гулять, нечем хвастаться, не о чем говорить. Самое ужасное было в том, что дома, когда никто не видел, у меня все получалось, но стоило выйти во двор, и я запутывалась в скакалке и не могла попасть в нужный квадрат битой, а уж скакать из одной клетки в другую, ловко передвигая биту, вообще никогда не удавалось.
- Соня, сколько можно лежать и читать, иди гулять, - заботилась о моем здоровье мать.
И я шла на эту каторгу, и стояла рядом с демонстрирующими виртуозные трюки девчонками во дворе в надежде, что меня не заметят. И они не замечали.
- Соня, ты же не будешь играть?
- Да оставь ты ее в покое, она не умеет.
- Умею, просто не люблю, - робко защищалась я.
Я не знаю, что случилось в то утро, когда в очередной раз выдворенная матерью во двор, спускаясь по лестнице с опостылевшей скакалкой в руках, я не увидела в дверном проеме черного хода ни двора, ни людей, ни соседнего дома. Из двери лился в не очень чистый и довольно обшарпанный подъезд ровный золотой свет, дверной проем казался рамой, которая с трудом вмещала это чудо, и свет проливался внутрь и растворил в себе и вход в подвал, и последние ступеньки. И я почему-то понеслась к нему сломя голову, но даже не споткнувшись традиционно о высокий порог и не заметив крыльца, запрыгала, ничего не понимая в этом свете, ощущая себя пустой, легкой, способной вот-вот взлететь.
- Ну, вот, а ты, Люська, говорила, что Сонька не играет с нами потому, что она корова и ничего не умеет, а она действительно просто не хочет. Смотри, как скачет и на одной, и на двух, и крестиком.
- Соня, ты чего?
Все уплотнилось, свет превратился в обычный солнечный день, и… я споткнулась. Так открылась для меня пустота, так получила я во владение тайну, которая спасала меня, поддерживала и помогала. И с которой я до сих пор не освоилась до конца.
* * *
А "солидный господин" продолжал свою игру. Он был в годах, крупный, одетый небрежно дорого, довольно длинные волосы взмокли от пота, но отстраненный взгляд и уверенные, спокойные движения рук многое могли сказать внимательному наблюдателю. Он даже иногда бурчал что-то, подобно всем игрокам, обвиняя дилеров в несоблюдении правил и преднамеренности, участвуя в общей игре всех завсегдатаев казино.
Довольно быстро сообразив, что мне за этим столом пока больше делать нечего, я поменяла фишки на кэш и, старясь не привлечь к себе внимание столь заинтересовавшего меня господина, аккуратно отошла от стола.
* * *
- Соня! Со-о-ня-я! Ты меня слышишь? Сколько можно кричать? Сейчас же домой!
Снулая атмосфера разморенного жарой послеобеденного двора развеялась. Мать высунулась из окна кухни, выходившего во двор, растрепанная, в халате, только что от плиты или стирки. Двор, как продолжение дома… Ее зычный, с нарастающим раздражением голос разносился по всему двору, и мы, игравшие в дурака в его противоположном конце, конечно же, слышали, не могли не слышать, но где это видано, реагировать на первый же материнский зов. Не поймут.
"Сейчас, сейчас", - кивала я головой, продолжая играть, как будто она могла меня услышать. Это был привычный дворовой ритуал. Матери звали нас из окон, мы делали вид, что не слышим, но все-таки прислушивались к интонациям, чтобы не пропустить момент, когда лучше уступить или хотя бы заорать в ответ с видом полной невинности:
- Мам! Что?
Я, в отличие от большинства, всегда отзывалась по первому зову, я не очень любила двор и его развлечения, а он не очень любил меня. Но не вовремя игры. Но не тем восхитительным летом, когда привычный ритм жизни нашей семьи: лето, каникулы, отпуск, море - был единственный раз на моей памяти нарушен, и вместо здорового и правильного "летнего отдыха" я самозабвенно резалась в карты, каким-то чудесным образом почти сразу постигнув все хитрости и тонкости игры, завоевав тем самым внезапный, ошеломительный авторитет у компании далеко не самых хороших мальчишек из нашего и соседних дворов, чем приводила в шок тетушек, которых я помню или вечно сидящими на лавочках, или развешивающими белье на веревках, которые они почему-то обязательно натягивали между волейбольными столбами, а потом сторожили их, как достояние республики.
Сколько я себя помню, я мечтала играть. Чудился мне в этом мире, почти запретном, чуть неприличном, воздух и независимость, некая неправильность, которая так нужна была мне, послушной и благовоспитанной, чтобы чувствовать себя живой. Я видела себя в нем свободной от бесконечных запретов, свободной для риска и удовольствия. Так в юности мечтают о сексе. Я мечтала об игре.
Или это я сейчас такая умная? А тогда? Что же я чувствовала тогда? Отдельность, непонятно от чего независимость. Просто Буратино какой-то со своей дверью в другую жизнь и поисками золотого ключика. Это была моя дверь и мой золотой ключик. И не спрашивайте меня почему. Тогда не знала и сейчас не отвечу, но какая чуйка! Сколько лет, сколько жизней миновало, а ничего в этом месте не изменилось.
Нет, конечно, в ранней советской юности я не думала об игре в казино. О чем вы говорите, какое казино? Казино - это страдающие непонятно от чего герои Достоевского, это падшие женщины и непорядочные мужчины из романов Бальзака и это американские гангстеры сороковых и романтизированная итальянская мафия. Эх, и начитанная же я была девочка. Будь благословен этот меняющийся мир.
Но этот двор, этот стол, на котором я сидела, никогда не садясь на лавку во время игры, эти потрепанные, засаленные карты и эти мальчишки, большинство из которых в скором будущем или сопьется, или сядет по хулиганке, а то и по более серьезным поводам, - это был мой вызов, мой бунт, моя победа, которую, может быть, никто и не заметил. И я спрятала ее там, в глубине, которой и сейчас-то не знаю названия.
Странно, но мне никогда раньше не приходило в голову, что все началось так давно.
Барселона - сверкающее платье великой Монтсеррат и гибкая в черном фраке фигура несравненного Фредди. Ее неземной красоты голос, несущий покой и счастье, и его, похожий на стон любви, возбуждающий и страстный. Эти слившиеся голоса и есть вся суть и тайна этого чуда света. Барселона!
Я видела этот дуэт только в кино, слышала десятки раз в записи и вот сейчас, стоя у Дворца спорта "Сан Джорди" и глядя на город, слышала этот победный клич, этот любовный призыв: Барселона!
Попала я в этот город совершенно случайно, в результате сцепления множества событий и обстоятельств, до последней минуты будучи уверенна, что собираюсь наконец поехать в Париж. Каталония, Мерседес из "Графа Монте Кристо" - каталонка, безумец Гауди, Саграда Фамилиа да известная футбольная команда - вот, пожалуй, и все, что я знала про этот город, ну и, конечно, Колумб. Я ехала в чужой мир, а оказалась дома.
Я бродила по городу, не сверяясь с путеводителями, не спрашивая прохожих, я ходила, как ходят по родному городу, в котором не были с детства, ожидая, чтобы сквозь завесу времени проступило наконец узнавание. И он отозвался. Жители казались дальними родственниками, так я была похожа на них. И они признавали меня:
- Сеньора не говорит по-испански? Как это? Сеньора выросла не на родине? Вы из тех, кого вывезли в ту войну в Россию? Родина всегда возвращает к себе, не так ли, сеньора?
И "сеньора" смущенно краснела и молча кивала, переходя на английский, давно уже ставший именно тем языком, о котором мечтали изобретатели эсперанто. Бедные англичане. Тот английский, на котором говорит весь мир, все меньше становится похож на их родной, сложный, с тонкими нюансировками язык. Недаром в больших разноплеменных компаниях, так легко и непринужденно возникающих у достопримечательностей объединенной Европы, в кафе и на площадях разных городов бытует шутка, что англичане - это единственные люди, которые плохо понимают по-английски.
- Сеньора говорит по-английски? - Я кивнула, не отрывая взгляд от собора, который строил гениальный безумец без чертежей и инженерных расчетов и который очень разумные люди, инженеры и архитекторы, пытаются достроить вот уже сколько десятилетий.
- Вам не кажется, что этот собор не собор вовсе и не архитектурный шедевр, а магический предмет, оброненный Великим волшебником или, может быть, специально подброшенный им людям, и они, околдованные, все строят его и строят, подобно Каю, пытающемуся собрать из ледышек неизвестное ему слово?
- Вы знаете, в той стране, откуда я родом, на берегу совсем другого моря, и дети, и взрослые очень любят строить замки из песка. Они набирают полные пригоршни песка вместе с водой, и он капает из их чуть раздвинутых ладоней, и из этих капель вырастает песчаное чудо, всегда непредсказуемое в своих деталях, но чаще всего с устремленными к небу остроконечными башнями. В той стране очень любят готику. И вот сейчас, когда я смотрю на это волшебство, мне кажется, что подсыхающий песок медленными струйками стекает по стенам, и я даже слышу его шорох, но божественный архитектор все капает и капает из своих ладоней мокрый песок, и все это не что другое, как песочные часы Вечности.
- Соскучились?
Вопрос показался столь неуместным, неожиданным и непонятным, что разрушил всю мою созерцательность. Я со всей возможной непочтительностью вопросительно уставилась на своего неожиданного собеседника и только сейчас разглядела, кто же это подсел ко мне практически без спроса и разрешения.
"Коровьев, ну вылитый Коровьев", - изумленно подумала я, как будто была близко знакома с пресловутым господином с глумливой физиономией, состоявшим переводчиком при не нуждающемся ни в каких переводах господине.
- Вижу, вижу, действительно соскучились. Ничего, все поправимо. - Он резко поднялся, мазнул по мне одновременно хитрым и холодным взглядом, бросил рядом с моей чашкой картонный прямоугольник, который я приняла за визитку, небрежным и неожиданным жестом приложил два пальца к несуществующей шляпе и исчез, как растворился.
"Перегрелась ты, мать, на южном солнце. Тоже мне встреча Ивана Бездомного и Берлиоза с Воландом на Патриарших. Только Аннушки с маслом не хватает, ну, что ж, будем ловить такси. Не на трамвае же после такой встречи ехать". То, что я приняла за визитку, сразило меня окончательно. На кусочке дорогой плотной бумаги было написано четким ясным почерком, рукой, явно не чуждой искусству каллиграфии: "Лучшее в этих краях казино - Gran Casino de Barcelona", причем написано было по-русски.
"Барселона!" - триумфально звенел голос Фредди. "Барселона!" - переливался невозможными руладами бескрайний и бездонный, как Средиземное море, голос Монтсеррат. Сыпался с тихим шорохом песок вечности, превращаясь в бессмертное творение Гауди.
А на другой стороне улицы, прямо напротив собора, в каком-то совершенно нелепом, убогом, непонятно откуда взявшемся пруду плавали утки, а прямо на берегу этого чуда толпились панельные пятиэтажки, родные сестры тех, что видела я в новых районах столичных городов и в заштатных городишках, совсем другой, абсолютно не похожей на эту, страны. И болтающееся на веревках белье казалось обрывками парусов колумбовских каравелл.
Двор. С ним связаны все главные и все обыденные события первой части моей жизни, той жизни, которая давно кончилась и, хотя принято говорить, ушла безвозвратно, но как становится все более и более очевидно, никуда не ушла. Сегодня мне кажется, что там, в этом дворе, за первые двадцать лет моей жизни некто видящий и знающий показал мне все, что может со мной случиться в жизни, причем показал варианты, намекая на возможность выбора.
Это был обычный и одновременно странный двор. Соседи дружили, ругались, не замечали друг друга, вежливо здоровались, и про тех, кто жил нараспашку, и про тех, кто старательно, вопреки принятому тогда стилю жизни, держал дистанцию, все знали всё. Радости, горести, бытовые проблемы и даже строго хранимые секреты.
Большинство жителей этого двора работали в одной организации, и сложность моего положения, как поняла я совсем уже взрослой, была в том, что мой отец был там начальником. Его все ценили и уважали. Это было очевидно. Мама дружила почти со всеми, и плюшки, которые она пекла по субботам, обязательно делая несколько дополнительных противеней, чтобы было что вынести во двор и угостить всех желающих, в какой-то момент стали непременным ритуалом.
Меня же во дворе не любили. Нет, я не была изгоем, но чужой и лишней чувствовала себя всегда. Меня никогда не обижали, меня звали играть, но это всегда было через напряжение и какую-то едва заметную, но очень чувствительную паузу. Я долго не могла понять, почему я так не люблю смотреть на свои фотографии, пока в одной из теперешних жизней-игр не узнала, что когда живешь ощущениями, то воспринимаешь себя совсем не так, как видят тебя снаружи. Я очень рано почувствовала этот зазор между тем, что я знала о том, какая я, и тем несоответствием, в которое тыркали меня снаружи.
Кто мне ответит, почему я не боролась, почему не настаивала? Я так старалась соответствовать. Но соответствовать не для того, чтобы избавиться от той, что живет внутри или изменить ее. Нет. Я сразу и навсегда выбрала не изменять ее, а прятать. Раз она никому, кроме меня самой, не нужна и не интересна.
День, когда весной привозили первый песок для игры в песочнице, был всегда днем всеобщего радостного субботника. Взрослые выходили во двор, чтобы поправить обвалившуюся за зиму беседку, посадить клумбу, что-то починить, покрасить, в это втягивались практически все. Двор осуждал тех, кто "боялся руки запачкать".
Дела заканчивались, но никто не спешил расходиться. Наши матери, большинство из которых были домохозяйками (какое странное было время: и жена начальника, и жена штукатура или шофера могли почему-то не работать), и соседи были их основным кругом общения, болтали о чем-то очень для них важном. Отцы и ребята постарше играли в домино. Моего отца среди них никогда не бывало, но кто бы его в этом упрекнул - он был начальник и был очень не молод.
Я отчетливо вижу гору песка, в которую мы, малышня, набились, как голодные, вижу себя, формочки и лопатки, валяющиеся тут же, и Люську: худющую, ручки-палочки, ножки-спички, в каком-то, кажется, всегда одном и том же, зеленом в желтый цветочек, платье, купленном на вырост и совершенно нелепом. Люську, с ее рыжими, вечно растрепанными косичками и, кажется, навсегда застывшим упрямо недовольным выражением в действительности очень миловидного с мелкими правильными чертами лица и очень белой, как у многих рыжих, кожей.
Люська. Моя лучшая подруга и мой злой гений. Она тянется именно к той формочке, которая мне нужнее всего в этот момент, я не отдаю… и вдруг меня как будто пчела в щеку ужалила. Под прижатой к щеке ладошкой появляется что-то теплое и липкое, на песок все быстрее капают густые темные капли. Люська быстро хватает свои игрушки и убегает. Я оборачиваюсь к стоящей неподалеку матери. Крик, шум, гам.
- Кровь, смотрите, у нее кровь течет.
Оказывается, это липкое теплое темно-красное - это моя кровь. Чужие мамы и бабушки бросаются ко мне, отнимают руку от щеки, откуда-то появляются мокрые платки, вода, и во всей этой суете я слышу совсем спокойный и отчужденный голос моей матери:
- Ничего страшного, ну поцарапалась немного.
Мы смотрим друг на друга, я пытаюсь ей что-то сказать, но при первом же звуке кровь начинает течь сильнее, попадая в рот, сбегая по лицу. В тот день я впервые не только увидела свою кровь, но и навсегда запомнила ее вкус.
Странно, но когда в памяти всплывает мать, она всегда как будто за стеклом, прозрачным, чистым, пропускающим свет и цвет, но холодноватым и непроницаемым. Ее характерный, присущий ей всю жизнь отстраняющий жест и присказка: мне ли людей не знать. Я относила ее к себе в не меньшей степени, чем ко всему остальному миру.
До сих пор никто не знает, где взяла Люська это лезвие для бритья, которым полоснула меня по щеке, сражаясь за так нужную ей формочку. Я никогда ее об этом так и не спросила. Да это было и неважно. Как неважным оказалось то, что я чувствовала и переживала. Вкус крови, липкие ладошки, подлость Люськи и самое удивительное - отсутствие боли и страха.
Важно было совсем другое, важно было то знание, которое я, естественно, не могла тогда ни назвать, ни сформулировать, но зерно которого навсегда поселилось во мне с тех пор, прорастая, становилось для меня источником силы и опорой: два самых главных момента в своей жизни человек не может разделить ни с кем. Один человек рождается и один умирает. Сколько бы врачей и медсестер ни крутилось вокруг рождающегося человека, как заботливы бы они ни были, там, внутри себя, он один на один с болью, ужасом и неизвестностью. Сколько бы любящих и заботливых родных и друзей ни стояли у смертного ложа, как ни велика была бы их любовь, как ни глубоко сочувствие, там, внутри себя, человек все равно один на один с ужасом, неизвестностью и, может быть, надеждой.
Но жизнь человеческая так хитро устроена, что, вырастая, человек забывает об этом и ему начинает казаться, что другим он может быть важнее, чем себе, и что без других его просто нет. И только тем, кому по воле обстоятельств не удается это забыть, или благодаря сцеплению событий удается это во время вспомнить, жизнь достается в собственность, и они получают шанс.
Я давно подозреваю, что моя мать это тоже знала и, предвидя многое, сознательно выбрала держать дистанцию, не подпуская меня, торопя мое взросление, каждый раз снова и снова отсекая пуповину, но сегодня, сейчас, я, Соня, благодарна ей как никогда. Но это сегодня…
Мы ничего не сказали отцу, мне не вызвали "Скорую", меня даже не отвели к врачу, ни в тот день, ни на следующий.
Мать полила мне руки водой, чтобы они не были такими липкими от крови, приложила к щеке мокрый чужой носовой платок и, уводя домой, сказала:
- Надеюсь, ты не собираешься устраивать истерику по этому поводу. Не трогай, и все быстро заживет.
Я шла рядом с ней ужасно гордая всем случившимся. Еще бы, сколько времени я провела в центре всеобщего внимания, не ревела, не хныкала, держалась достойно, как большая.
Она до конца жизни не верила мне, когда я пыталась ей объяснить, что Люська тогда умудрилась разрезать мне щеку насквозь.
Это был первый урок. Мои боль и страх, только мои, мои чувства - только мои. И чтобы быть "хорошей девочкой", все это надо прятать.
Но, как видно, тот, кто пекся о моей судьбе, побоялся, что мне окажется его недостаточно и я забуду его по малолетству, как забываются детские радости и горести и детские прозрения, старательно стертые здравомыслием "взрослой" жизни. "Будьте, как дети, но не будьте детьми". Чувствуйте остро, но не забывайте.
Я не помню ни одной подробности, предшествовавшей событию, которое и сегодня вижу так же отчетливо, как мебель в своем рабочем кабинете и как пейзаж за окном. Я просто знаю, что в тот день весь двор играл в войну и меня взяли на роль партизанки, попавшей в плен. А вот то, что было дальше, живет во мне и сейчас во всех подробностях.
Я вижу себя висящей в, слава богу, не до конца затянувшейся петле, привязанной к ручке двери трансформаторной будки в самом дальнем закоулке двора. Недавно побеленная трансформаторная будка, недавно покрашенная голубой масляной краской дверь. Что удивительно, когда через сорок лет, совершая нечто вроде паломничества по святым местам, я вернулась в город моего детства и пришла в этот двор, его практически невозможно было узнать. Перестроенные дома, стильно оформленный, совершенно безликий дворик, другие люди, другая страна. Но трансформаторная будка, чисто побеленная с покрашенной все той же голубой масляной краской дверью, была цела и невредима. Египетская пирамида. Стоунхендж. Тадж-Махал. Если и была у меня малюсенькая надежда, что все, что тогда произошло со мной, все-таки только видение, то она мгновенно растаяла при виде этого незыблемого свидетеля.
Я вижу, как в полной тишине разбегаются все, кто только что с упоением играл в казнь героини-партизанки. И паузу одиночества тоже вижу. Я вижу, как выходит из парадной Люськина бабушка, грузная, медлительная, в домашнем байковом халате, темно-красном, в непременный синий цветочек, в стоптанных клетчатых тапках, небрежно заколов седые длинные волосы и с неизменным "Беломором" в зубах. Она курила его беспрерывно, и в доме, где далеко не всегда был запас денег на еду, всегда был запас именно этого курева. Она идет к сарайчику, где хранится квашеная капуста и картошка. Это там, в том углу двора, где я вишу.
Она видит меня, висящую. Ах, эта выучка фронтовой медсестры! Ни крика, ни суеты. Она бросается ко мне с мгновенной реакцией опытного человека, знающего, что от секундного промедления может зависеть жизнь. Я слышу собственную мысль: "Только бы не дернула". Но она с неожиданной ловкостью подставляет плечо, приподнимает меня и свободной рукой пытается оторвать или отвязать веревку, одновременно губами прикасаясь к моей щеке, ко лбу, убеждается, что я живая и теплая, и только теперь двор оглашает ее зычный хриплый голос: "Люська, Верка, помогите, скорее. Сонечку повесили!"
Соседи высовываются в окна, выбегают во двор, откуда-то взявшимся ножом наконец разрезают веревку. Я недвижным кулем остаюсь лежать на плече бабушки Марины. И вижу, как из нашей парадной, полуодетый и растрепанный, чего с ним никогда не бывало, выбегает мой отец.
Я и сейчас чувствую, как встрепенулось во мне радостное облегчение навстречу ему, но он не идет ко мне. Он бросается в ту сторону двора, где разъяренные взрослые накинулись на зачинщиков игры, так позорно струсивших в трудную минуту. С этого момента мое видение становится все менее отчетливым. Словно сквозь туман я чувствую, как меня осторожно кладут на лавку, и слышу чей-то голос, безостановочно нашептывающий: "Ничего, ничего, все обошлось, все обошлось", - и уже только ощущение от ледяной воды, которой окатила меня из ведра все та же мудрая и опытная фронтовая медсестра - бабушка Марина.
Я помню, как уже переодетая, умытая, сижу на кухне напротив отца и он, взбудораженно смущенный, непривычный, говорит, что раз уж мамы нет дома, то давай не будем ее тревожить и ничего не будем ей рассказывать. Мне очень хочется спросить его, почему он бросился туда, к мальчишкам, а не ко мне, но больно глотать и больно говорить. А он, всегда такой сдержанный и молчаливый, говорит и говорит и уверяет, что ничего страшного в действительности не случилось, что все пройдет и не надо устраивать трагедию из того, что так хорошо закончилось. И я соглашалась, гордая его доверием и возможностью иметь общий секрет с отцом, с этим странным существом, почти богом, вокруг которого вертелась жизнь нашей семьи. Мы с матерью по одну сторону, а он, недосягаемый, по другую.
- Не расстраивай отца, у него и так много забот.
- Не тронь - это отцу.
- Чтобы к следующему уроку исправила эту "тройку", и не будем говорить папе, его это очень огорчает.
Это были незыблемые, неколебимые и безоговорочные границы, которые очерчивали мой мир, мои права и интересы. Это была моя черта оседлости. И я жила за ней, ни на секунду не сомневаясь, что так и должно быть и что это и есть единственно возможный порядок вещей.
Изменить на какое-то время этот мир мог только он сам. И иногда это случалось.
- Я завтра еду по району и, если ты не против, возьму Соню с собой.
Эта магическая фраза означала только одно: завтра - день счастья. Он сам это предложил, сам захотел, чтобы я с ним поехала. Разве мать могла "быть против", даже если и была.
Я еду с ним по району. Это означает, что мы будем ездить из одного городка в другой, от одной стройки на другую. И отец будет весело болтать с водителем всю дорогу, и будет очень занят на этих самых стройках, где его - большого начальника - будут все встречать с почтительным уважением. И он будет всем нужен, и все будут спрашивать совета и выслушивать его мнение.
А когда он будет уходить на какие-то таинственные сборища под названием "совещание", мы с его водителем, которого все звали Юра, несмотря на почтенный возраст и солидную внешность зажиточного крестьянина, будем предоставлены сами себе. Он разрешит мне мыть вместе с ним машину. И мы будем бегать с ведрами за водой в ближайшее озеро. И я буду зачарованно смотреть, как он бесконечно над ней колдует, то почти полностью залезая под днище, то засунув голову под капот своей любимой "Победы", к которой относился с нежностью, как будто она была живым существом, напоминая мне циркового дрессировщика, который засовывал голову в пасть тигру, как я однажды видела в цирке. Мне разрешат пачкаться и всюду лезть, а потом мы будем отмываться, поливая друг другу руки, и есть толстые бутерброды, завернутые в такую же толстую бумагу, и заговорщицки подмигивать друг другу. Юра, водитель моего отца, моя нянька и друг семьи. Коренастый, молчаливый и какой-то всегда очень теплый. С ним было легко, он тоже разговаривал со мной, как со взрослой, но если бы не он, я бы еще долго не узнала, что быть взрослым - это не только серьезность и ответственность, но иногда это еще и радость.
Но самое главное всегда было впереди. Отец возвращался со своих таинственных совещаний к вечеру, и я каждый раз с замиранием ждала, что вот сейчас, перед дорогой, это случится.
- Ну, как вы тут? - Он выходил из очередного стройтреста, бодрый, какой-то помолодевший, в лихо сдвинутой на затылок шляпе, в расстегнутом, длинном по тогдашней моде габардиновом плаще, и произносил с заговорщицким видом всегда одну и ту же фразу: - Ну, что? Кутнем?
Ах эти провинциальный кафе моего детства. В них пахло кофе и пирожными и чем-то очень домашним. И обязательная рюмка водки, которую отец всегда называл "мои законные фронтовые", и мои пирожные, какие и сколько хочу, и Юра, который всегда, не спеша и основательно, заказывал "полный обед", - это был наш кутеж, наша маленькая тайна. Мы понимающе перемигивались, хохотали по любому поводу и без и все оттягивали и оттягивали момент, когда Юра, чувствуя свое право, деликатно прокашлявшись, говорил как бы в никуда и никому.
- Завтра с самого утра вроде в министерство собирались?
- Ну, что? По коням? - Отец вопросительно смотрел на меня, как будто я могла изменить их решение, но все равно мне было необычайно приятно. И я, важничая, соглашалась: "Пожалуй, пора".
На обратной дороге я обычно засыпала и каждый раз пропускала момент, когда веселый, общительный строительный начальник превращался в суховатого, сдержанного и молчаливого главу нашего семейства.
Мне никогда раньше не приходило в голову: а может, отца тяготило это положение фараона, которое царило в нашей семье? Может, это совсем и ненужно было ему, чтобы скрывали мелкие житейские неприятности и отгораживали от всех житейских забот. А если не нужно, то почему это происходило, что прятали за этим почти ритуальным образом жизни мои родители? Зачем им нужна была та черта, за которой каждый из них прятал себя, как и я, стараясь быть "хорошей девочкой".
Только теперь я поняла, что этому железному человеку, легендарному в наших краях герою войны, было невыносимо стыдно его столь очевидной для всех растерянности и беспомощности, и благословила свое болевшее горло и свой инстинкт самосохранения, позволивший мне никогда больше не возвращаться к тому дню.
Это был второй урок. Но даже его я забыла, стерла из памяти на многие годы, потому что не знала, как остаться "хорошей девочкой" и помнить. Ведь мне ясно и твердо объяснили, что я не могла ничего этого видеть, а что я чувствовала и переживала - это вообще не интересовало никого.
- Я устала от ее бесконечного вранья и конфликтов со всеми и вся. Я работаю с ними с первого класса, и все время одно и то же. Вы поймите, если бы не ее блестящие успехи в учебе, я бы давно настояла на том, чтобы ее перевели из моего класса. Мало того что из-за нее постоянно какие-то разборки и выяснения отношений между учениками, так вчера учительница математики была вынуждена выгнать ее из класса и, рыдая, в учительской заявила, что не пустит ее больше на свои уроки, потому что не может терпеть, когда на нее так смотрят. Да, да, именно так! - взорвалась она, уже не стесняясь присутствия моей матери. - Каждый раз, когда я вхожу в класс, мне кажется, что у меня не то чулок спущен, не то я сморозила какую-то невероятную глупость. Соня, ты не выносима. - Она замолчала, с надеждой глядя на мою мать, которая только молча поглядывала на меня с какой-то безнадежной усталостью и согласно кивала.
Бедная, суровая, пугающая всю школу Алефтина Карловна, наш классный руководитель, педагог со стажем, какого просто быть не может, с замашками комиссара из "Оптимистической трагедии" и такой же, как эта пьеса, революционной фамилией. Что она могла со мной сделать? Я была краса и гордость школы. Аккуратно и затейливо уложенные в "корзиночку" косички, всегда выутюженная, не магазинная, а на заказ шитая школьная форма, никаких запрещенных, как мусульманам свинина, попыток подкрасить губы или, того страшнее, сделать маникюр или - о, ужас и позор! - черных чулок. Я писала лучшие сочинения, которые посылали на городские конкурсы, я была активистка и общественница, и у меня всегда была "пятерка" по поведению. Мой отец дружил с директором школы и постоянно заботился о своевременном ремонте и всяческом благосостоянии (это называлось шефство). Моя мать была председателем родительского комитета, а тогда это была сила.
Алефтина Карловна замолчала, решительным движением пододвинула к себе очередную стопку тетрадок, не то демонстрируя, что разговор окончен, не то защищаясь. Мы попрощались и вышли.
- Это последний раз. Мне надоел твой длинный язык. Вечно ты лезешь, куда не просят. Я, наверное, не доживу до дня, когда ты прекратишь свои фантазии. Если ты такая умная, разбирайся сама.
Мать развернулась и пошла по длинному школьному коридору, который ввиду позднего времени был совершенно пуст, как-то неожиданно усталой и совсем не победительной походкой, а я продолжала стоять у окна.
Вы будете смеяться, но я практически никогда не лгала, но вечно говорила что-то не то, не тогда и не тем. Это я за собой знала. Не знала я другого: что - не то, почему - не тем. Это мучило меня всегда, но даже самые искренние попытки, которые я сначала предпринимала, чтобы выяснить у тех, кого время от времени считала своими друзьями, что же я постоянно делаю не так, ничего, кроме недоумения, у меня не вызывали. Они то утверждали, что ничего такого, о чем я говорю, не было, то, что они и близко ничего подобного не говорили, и только абсолютная уверенность в том, что я здорова психически и у меня прекрасная память, спасала меня временами от сомнений в собственной адекватности. Но, черт побери, откуда же я знала то, о чем с такой уверенностью говорила?
"Ума палата" и "язык без костей" - это были два самых популярных комментария, которыми удостаивали меня родители, когда до них, так или иначе, долетали отголоски моих школьных бурь.
Из пустоты, дорогая, из пустоты. Не было никого, кто бы шепнул мне эти утешающие слова. Долго еще не было.
Через много лет, когда после очередного обморока от нестерпимой головной боли прямо на улице, я все-таки вынуждена была обратиться к врачу, и рентгеновский снимок показал застарелую травму шейных позвонков, на вопрос врача, не было ли каких-нибудь травм в детстве, в первое мгновение я честно ответила: "Нет".
- Какие глупости, - подтвердила тогда мое "нет" уже не молодая, но все такая же стойкая и уверенная в своей правоте моя мать. - Когда это тебя вешали, что ты выдумываешь.
Да, я так наглухо запретила себе видеть и знать, что не только не видела и не знала, но и очень долго не помнила, что когда-то я "видела" и "знала".
Нет, не правда, все-таки однажды это случилось, случилось то, что оказалось сильнее всех внутренних запретов и на время сломало крепостные стены и засыпало рвы, которыми я так старательно отгораживала себя от всего остального мира, оставив там, за стенами, среди людей, лишь то, что их всех вполне устраивало. А может, я все-таки ошибалась, и стены не были так уж высоки, и где-то оставались щелочки и этот запах чужого, который так хорошо чувствует стая, просачивался? И держал на расстоянии? Молода была, не опытна. И одна.
Меня не любили в студенческой тусовке так же, как не любили во дворе, когда-нибудь потом я все-таки разберусь, что же это было такое. А может, и разбираться не надо? Может, я давно все знаю? Сказано же, стая чует чужого. Просто я еще и сама не знала, что чужая, а они уже чувствовали безошибочным инстинктом толпы. А мне хотелось быть в компании, мне хотелось флиртов и романов. И глупостей, которые я понаделала, движимая этим желанием, хватит на историю не одной "хорошей девочки". Да и глупости-то были именно такие, которые совершают именно "хорошие девочки". Я не была частью той компании, которая мне особенно нравилась и в которой мне так хотелось быть своей, но я толклась среди них. Иногда я с кем-то сходилась ближе, мне казалось: вот оно, наконец-то у меня есть подруга, наконец у меня есть поклонник, и я бросалась навстречу с душой нараспашку. Тут-то все обычно и кончалось. Я даже не стану спрашивать, что бы сказал Фрейд, я просто знаю, что бы он сказал. Но я так же знаю, что я бы с ним не согласилась. Ни тогда, ни тем более сейчас.
Яков был в этой компании тем, кого в психологии малых групп называют "звездой". Он не был лидером, он не выдвигал идей, он не собирал вокруг себя народ. Любительская радиостанция при университете, в которой он дневал и ночевал, была своеобразным клубом для избранных. И бросить утром в курилке: "Я сегодня совершенно не готова к семинару. Вчера у Якова, - его никто никогда не называл иначе, - в „башне" так засиделись", - было равнозначно тому, чтобы в наше время сообщить о ночи, проведенной в самом фешенебельном ночном клубе на закрытом мероприятии. Причем хвастались этим как девушки, так и молодые люди. Я попала в "башню" к Якову совершенно случайно. Меня прихватила с собой Люська.
Да-да, все та же Люська, с которой мы учились в одной школе, а теперь в одной группе в институте. Она и здесь была центром, лидером и практически непререкаемым авторитетом. И конечно же, первой красавицей. Если бы во времена нашей юности слово "модель" означало не модель самолета, корабля или какой-нибудь машины, а уже приобрело то единственное содержание, которое при этом слове всплывает у всех теперь, то я бы с уверенностью сказала: Люська - модель. По ней плакали бы самые известные подиумы мира. Высоченная, худющая, как говорили тогда, стройная, сказали бы сейчас, не нуждающаяся для этого ни в каких диетах, уверенная в своей неотразимости, и по-настоящему, почти невозможно рыжая. Это были не волосы - это была грива, от попыток причесать которую отказывались парикмахеры, и даже почти армейский порядок, заведенный в школе, где мы с ней учились, отступил перед невозможностью заставить это чудо природы укладываться в аккуратную школьную прическу для "порядочных девочек". Никогда в жизни больше я не видела таких волос.
Любимым занятием мальчишек было смять большой ком медной проволоки и, неожиданно подкравшись, сунуть Люське этот ком под нос с криками: "А мы тебя постригли". И даже когда эта шутка повторялась в сотый раз, Люська мгновенно покрывалась мертвенной бледностью и в панике хваталась за кое-как собранные и перевязанные лентой огненные кудри. Закрученная в спираль смятая медная проволока действительно ни цветом, ни видом совершенно не отличалась от Люськиных волос.
Вот эта самая Люська и привела меня однажды в "башню". Зачем я ей тогда понадобилась? Наша так называемая дружба сильно смахивала на отношения светской львицы и навязанной ей провинциальной родственницы, она была тяжела для обеих, но при всех сложностях и напряжении ни она, ни тем более я никогда не переходили ту черту, за которой все бы закончилось бесповоротно. Иногда мы почти всерьез говорили, что родство наше - кровное.
Итак, она привела меня в "башню". И, как обычно, сразу про меня забыла. Ей-богу, радиорубка - это было покруче, чем интернет-клуб. Аппаратура была, конечно, практически вся самодельная, но это и была самая крутизна. Пространство, несмотря на постоянную тусовку, было совершенно необыкновенным - открытое в мир. У Якова было очень много друзей в самых экзотических странах мира, он обменивался с ними сообщениями, вся "башня" была обвешана такими специальными открытками, которые радиолюбители пересылали друг другу в подтверждение общения. Но самое главное, они общались, они разговаривали друг с другом. Это было совершенно необыкновенно.
Народ уходил, приходил, обсуждал какие-то свои дела. Места там, оказывается, было совсем немного, и я поняла, что большинство из тех, кто гордился своей допущенностью в это престижное место, если и бывали здесь, то редко и недолго. Яков практически не принимал участия во всеобщем трепе, хотя каждый считал нужным по любому поводу обратиться к нему за поддержкой или привлечь его на свою сторону. Он был длинный, худой, черноволосый, черноглазый и обаятельный.
Это время, когда все вдруг срочно поделились на физиков и лириков, на философов и деятелей. Грубая реальность ядерного оружия была еще свежа и потрясла человечество. Все знали, что человек смертен, но только циник Воланд спокойно напоминал, что человек внезапно смертен. С появлением сверхоружия двадцатого века это ощущение обострилось у многих. В стране, где мы тогда жили, большинство никогда не говорило о Боге и уповало на рациональное познание мира, на то, что вот сейчас эти умные и высоколобые все поймут, все разъяснят, и мир опять перестанет быть таким угрожающим и страшным. Спор между физиками и лириками, вечный спор смысла и бытия, стремления все познать и переживания того, что далеко не все предназначено для понимания.
Мы тогда и не подозревали, да и кто позволил бы нам в нашей бывшей стране знать, что большинство величайших физиков мира, интеллектуальная элита человечества, дойдя до каких-то неведомых границ, за которыми кончалась всякая надежда на возможности рационального, останавливались и, смиряя гордыню, обращались к Богу. К неведомому, непознаваемому, но существующему.
Яков был физик. Он все время возился со своими приборами, что-то паял, привинчивал и вообще, как мне тогда показалось, просто колдовал. Я потыкалась в разные углы, как всегда, не находя себе места, и пристроилась на куче каких-то проводов.
"Что я тут делаю? То, что и всегда - жду Люську. Да не надо ее ждать, вот, наконец, появился тот, ради кого она сюда пришла". Мне сразу стало понятно, чем я обязана такой нежданной милостью. Накануне она поссорилась со своим молодым человеком и взяла меня с собой на всякий случай. Но они практически сразу помирились, и, когда парочка собралась уходить, Люська, как всегда с царственной небрежностью, бросила через плечо: "Ты бы шла, а то на троллейбус опоздаешь, да и сеанс у Якова скоро, он все равно сейчас всех выгонит". Тяжеленная железная дверь захлопнулась за ними с грохотом, и я стала нелепо суетиться, ища способ уйти без такого демонстративного шума. И когда я уже почти добралась до двери, хозяин рубки оторвался наконец от своих бесконечных важных дел:
- Эй, ты извини, я даже не расслышал, как тебя зовут. Но я слышал, что Люська хвасталась твоим английским, как будто это она тебя научила. Ты что, действительно знаешь язык? - Я оторопело кивнула. - И говорить можешь? - Я что-то утвердительно проблеяла в ответ. - Ну, так оставайся, поможешь, а то я со своим бразильцем никак не договорюсь.
И я осталась. Если вы думаете, что я сейчас начну рассказывать, что я понимала, какое счастье мне привалило, что я не спала по ночам, мечтая о том, как приду в "башню" следующий раз, как я надеялась, что наступит день и случится "настоящее" свидание, то вы ошибаетесь. Если бы я тогда хоть что-то знала о духовной практике буддизма или хотя бы о его философии, то я бы сказала, что это был период моей жизни, когда я в совершенстве постигла пребывание в "здесь и сейчас". Я переживала то состояние полноты пребывания, которое так заманчиво описано всеми величайшими духовными учителями и так блистательно опошлено толпами профанов.
Впервые после того, как меня вынули из петли, впервые в почти уже взрослой жизни ко мне вернулось острое чувство собственного бытия. Я чувствовала себя живой и существующей. Существующей по факту, независимо ни от кого и ни от чего, и не потому, что мое отражение можно увидеть в зеркале или витрине и я числюсь в списках своего факультета. Это было так важно, так сильно, что не оставляло места для мыслей о будущем, планах на дальнейшую жизнь и вообще для всех тех мыслей и волнений, которые должны бы возникнуть в голове у молодой девушки в период первой любви. Как можно было думать о том, что будет, когда в каждую минуту все уже было. Господи! Как я, оказывается, хотела быть!
"Знающий не говорит, говорящий не знает". Почему они все так много говорили?
Я приходила почти каждый вечер, когда в "башне" никого уже не было. Мы разговаривали с бразильцем, который бесконечно рассказывал про свой дом на берегу моря, и мы надеялись, что не врал; с испанцем, который говорил, что он художник; со студентом из Германии и еще с какими-то людьми, о которых я уже теперь ничего не помню.
В институте, в курилке, стали поговаривать, что университетское начальство озверело и что Яков вынужден почти никого не пускать, потому что они грозятся иначе закрыть радиостанцию. Этот слух Яков усиленно поддерживал, чтобы быть свободнее, но не поссориться ни с кем. Я прятала свои посещения "башни" от всех, и особенно от Люськи, как разведчик прячет ключ от шифра. Мне было легко, ясно и спокойно.
Однажды Яков, который, как выяснилось, говорил по-английски ненамного хуже меня, бодро и весело стал рассказывать бразильцу, что хоть он и не на вилле у моря, но и ему тоже совсем не плохо в его университетской "башне", потому что с недавних пор у него есть замечательная подруга, с которой он его, бразильца, непременно познакомит при первой же встрече, но только после того, как на ней женится, чтобы она уже никак не могла соблазниться экзотическим бразильцем.
Я сидела у него на коленях, больше просто негде было, наушники были одни. То шепотом подсказывала нужные слова, то переводила то, что он не понимал в своеобразном английском бразильца… У меня было в тот момент все, о чем только можно было мечтать: была я, и я была не одна. И мне было даже не очень важно, о чем он там треплется с этим нереальным бразильцем, который если и существует, то так невообразимо далеко и в таком странном мире, что как бы и не существует вовсе. Окон в "башне" не было, свет и звуки улицы сюда не долетали, время внутри "башни" и снаружи не совпадало. Это был наш мир и наше время. И у этого места была совершенно отдельная география.
Только когда сеанс закончился, я, дура, поняла, глядя на Якова, что это был никакой не треп, а так он и думает, и что он вообще-то уже все решил, и что никто и не собирается ничего обсуждать или спрашивать. Но это мое молчаливое понимание что-то мгновенно изменило, что-то разрушилось с бешенным выбросом энергии. Свет. Откуда-то взялся яркий солнечный свет?..
Я могу сказать только банальное: я не помню ни того, как нас бросило друг к другу, ни как мы оказались на полу, мы даже не целовались. Я помню жар тела и холод бетонного пола, я никогда не забуду запах, первый в моей жизни запах возбужденного мной мужчины, и практически мгновенный, первый пережитый мною от полноты чувств и ощущений оргазм. Правда, я тогда и слова-то такого не знала. Хотите - верьте, хотите - нет. И внезапно побелевшие губы и остановившиеся глаза Якова.
- Так не будет. Я хочу, чтобы все было по-человечески.
Онемевшая и растерянная, я была согласна на все. Думаю, что он знал, о чем говорил, и мне оставалось только довериться. Для меня этот мир пока почти не существовал.
Он позвонил на следующий день.
- Приезжает мой младшенький. Мы идем в кино, я зайду за тобой в шесть.
А потом, как зима на коммунальщиков, на студентов навалилась сессия, и было совершенно некогда видеться, и только короткие, как донесения с поля боя сообщения:
- Зачеты сдал.
- Осталось еще три экзамена, остался последний.
Город, в котором я родилась, старый, красивый и уютный. Он действительно стоит на холмах, и его улицы достаточно круты, чтобы зимой было просто невозможно идти вниз по улице, если ее еще не успели почистить. Правда, это бывало очень редко. Были такие замечательные люди - дворники. Они успевали это сделать до того, как большинство жителей выбиралось из дома. Все мое детство и юность в разнообразной утренней музыке родного города отслеживалось присутствие этой ноты, тональность которой менялась только от времени года. Это было или шарканье метлы, или скребущий звук лопаты. Говорят, что такие люди - дворники - есть и сейчас, но я полагаю, что это понятие сменило свое исконное содержание, как и многие другие, за вечность, прошедшую с тех пор.
Я волоклась вверх по улице, ведущей от троллейбусной остановки к моему дому, только что "спихнув" последний экзамен длиннющей летней сессии. Все было позади, но бессонные ночи, нервы и куча совершенно не нужной информации, которая еще не успела выветриться из головы, не давали никакой возможности вкусить радость от столь важного события. Домой и спать, все потом.
Это было время, когда не было сотовых телефонов. Забытый кайф гарантированного, абсолютно защищенного одиночества. Ты просто едешь в троллейбусе, просто идешь по улице. В голове пусто, а ты просто идешь и глазеешь по сторонам, как будто спросонок. И не зазвенит в кармане, в сумочке, и не завибрирует, и, слава Богу, никто не спросит: "Ты где?" А то и этого не спросит, а просто с места в карьер начнет грузить совершенно тебе не нужными вещами или нужными, но не сейчас и не здесь.
Сияющего, размахивающего руками, совершенно на себя не похожего Якова я заметила, когда он в полном соответствии с законами его обожаемой физики с трудом затормозил около меня. Я опешила совершенно, и все, что в действительности произошло, дошло до меня, когда он все такой же веселый, легкий и неправдоподобно счастливый понесся дальше, несколько раз обернувшись на ходу, наталкиваясь на шарахающихся прохожих.
- Я тебе серьезно говорю, готовься. Вернусь. Поженимся.
Оказывается, он давно подал заявление в студенческий отряд, который будет работать на рыболовецких сейнерах, и его берут помощником радиста. Он ничего не говорил, потому что боялся, что не получится. А вот сегодня пришло подтверждение, а завтра уже надо ехать, и он позвонил своей маме и сказал ей, что осенью, когда вернется, женится, и он только что был у меня дома, но никого не застал, а сейчас уже совсем нет времени, и он опаздывает на собрание этого самого отряда. А женится он на мне, и он уже сказал своей маме, что я согласна. Да и младшенькому я ужасно понравилась. И приходить завтра его провожать не надо, потому что мы, оказывается, не хотим, чтобы кто-нибудь что-нибудь знал раньше времени.
- Сонечка, ты что тут стоишь такая бледная? Ты не заболела? Ох, уж эта ваша учеба!
Я стояла у подъезда своего дома, у нас всегда говорили "подъезд", "бордюр", "ворота", а не "парадная", "поребрик" и "арка", как говорят в городе, где я живу теперь. И когда я слышу те слова, я всегда оглядываюсь, кто знает, а вдруг… Соседка, тетя Валя, участливо заглядывала мне в глаза, даже потрогала лоб, еще раз посетовала на изнуряющую юный организм учебу и мою бледность. Сунула мне яблоко из авоськи и, сообщив, что только что видела мою мать в "хлебном", да у нас еще говорили "хлебный", а не "булочная", посоветовала мне поесть и поспать и, наконец, скрылась за дверьми своей квартиры.
Она Якова не видела. Иначе, конечно же, не преминула бы поинтересоваться подробностями. А я? Я его видела?
* * *
Переходы:
2002 - 2017 © с а й т О л ь г и Л е в и н о й